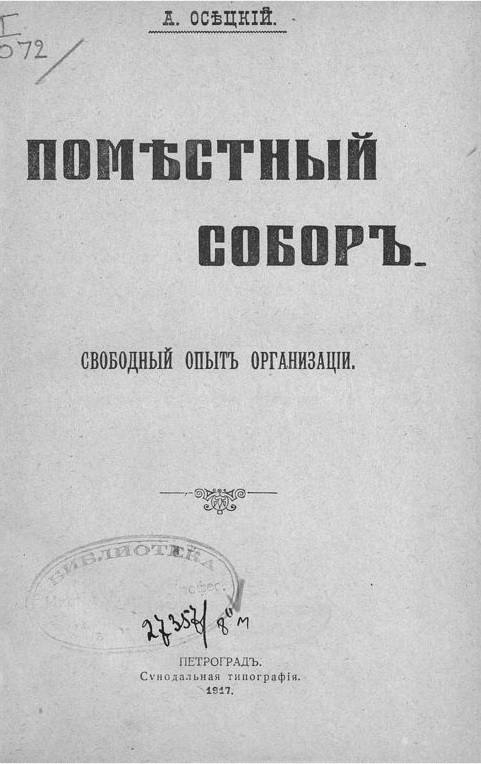
В длинной цепи реформ, такъ страстно ожидаемых русским общественным самосознанием, реформа церковного управления является одной из самых неотложных.
Эта неотложность вызывается не только чисто церковными, но и государственными интересами, такъ как, въ виду тесной связи русской Церкви съ государством, церковные реформы неминуемо должны отразиться и на столь же неотложных реформах государственных. Церковь, которой принадлежит крупная роль въ созидании и укреплении нашего отечества, должна и теперь показать пример разумнаго обновления своего строя и тем смягчить, облагородить формы грядущих государственных и общественных построений.
Этот пример, помимо других утилитарных соображений, полезен уже тем, что может укрепить вековую связь государства с Церковью,— связь, ныне видимо слабеющую вследствие того, что церковное управление как будто сторонится живых вещей, замыкаясь въ тесном круге привычных, но отживших понятий, древних, но омертвелых ныне, установлений. Эта замкнутость, это отчуждение церковной власти от жизни, выражающееся теперь во взаимной холодности отношений между центром и перифериями, въ непонимании друг друга, въ конце концов грозит полным разрывом между государством и Церковью, опасным для одной только церковной власти. Такимъ образом, в интересах этой власти стать на путь преобразований.
К этому зовут и многообразные нестроения в русском церковном управлении. Еще Достоевский сказал, что русская Церковь находится в параличе. Пусть это афоризм великаго писателя с явным смешением понятий (Церковь — въ смысле правящей иepaрхии), — тем не менее, его утверждение гораздо ближе к истине, чем обратные заверения сторонников существующих церковных порядков.
Есть факты, отрицать которые нельзя. Упадок веры и благочестия въ народе признают и сами сторонники нынешнего положения вещей. Безсилие иepapxии удержать въ церковной ограде такую крупную интеллектуальную силу, какъ графъ Л. Н. Толстой, и почти всю русскую интеллигенцию с её богоискательством в стороне от церковных веяний — тоже факт общеизвестный.
Упадок пастырскаго влияния на народ и в то же время необыкновенный успех Чуриковых, братцев Иванушек, монахов Власия (въ Сызрани) и Иннокентия (въ Балте) — явления неоспоримыя. Не более высок и административный авторитет нынешней церковной власти. Отлучение графа Толстого только увеличило его популярность. Увольнение на покой епископа Гермогена во многих «правоверных» кругах снискало ему ореол мученика за правду. Шумная история съ иеромонахом Илюдором только потому не обратилась въ апофеоз этого своеобразнаго поборника правды, что сам борец несколько поспешно засвидетельствовал о некотором несоответствии своей жизни с исповедуемыми им идеальными принципами.
Taкиe факты,— а их можно указать великое множество,— свидетельствуют, что в организме русской Церкви что-то неладно. С другой стороны, сетования на бюрократизм, царящий в сферах нашего церковного управления, жалобы на цезарепапизм, съевший внутреннюю свободу церковнаго самоопределения, откровенныя указания самих иерархов на «неканоничность» нашего церковного строя — все это печальные признаки надвигающагося, если уже не начавшегося, развала. Недовольство ведомством православнаго исповедания стало общимъ явлением.
Недовольны архипастыри, тревожно следящие за вспыхивающими попытками ограничить их фактически сложившееся неограниченное самовластие, столь противное учению Христа о смирении (Матф. XX, 25—28, Марк. X, 35 — 45, Лук. XXII, 24 — 27, 1оан. XII, 12 — 15).
Недовольны пастыри и вообще клирики — единственная на Руси группа населения, остающаяся въ крепостной зависимости от своих духовных владык и тщетно вопиющая об изменении её правового положения.
Недовольны миряне, жаждущие возвращения догматически им свойственных и только исторически утраченных прав на живое активное участе в церковной жизни.
Недовольны, такимъ образомъ, все три элемента, составляющие в своей совокупности подлинную Церковь.
Недовольны, наконецъ, и те, кто, будучи потенциальными овцами единаго стада Христова (Иоан. X, 16), доселе остаются вне церковной ограды, благодаря неправильным основаниям и ложному направлению миссионерской деятельности соответствующих органов русскаго церковного управления.
Жизнь в этой сгущенной атмосфере недовольства крайне тяжела и чревата грозными последствиями, устранение коих путем эволюционного движения вперёд представляется настоятельно необходимым уже по одному тому, что при эволюционной системе реформ остается возможность использования старого мaтepиала для возведения нового здания на цементе преемственности от времен Христа и Апостолов, и, наоборот, крайне опасно, если напряженная атмосфера разредится сокрушительным градом церковной революции.
Тогда на голой пустынной равнине новые люди, утерявшие въ разъяренной стихии гневнаго недовольства воспоминания о прошлыхъ и во многих отношениях ценных традициях, будут возводить новое неведомое здание Церкви на самочинных началах, что едва ли в интересах не только церковной власти, но и всей православной русской Церкви, а вместе с ней и государства. Опасения за такой именно исход настойчиво побуждают общественную и государственную мысль устремляться къ церковным правящим кругам с требованием неотложного осуществления необходимых реформ.
Эти устремления въ последнее время нашли свое выражение в Государственной Думе. Последняя из года въ год указывает на разные недочеты духовнаго ведомства и настойчиво требует обновления застоявшегося церковного строя. Характерно, что даже те политическая группы, которыя считают религию делом индивидуальной совести, как только речь идет о ведомстве православнаго исповедания, не удерживаются на позиции безразличнаго невмешательства и на ряду с другими спешатъ внести свою долю укоризны по поводу тех или иных недостатков въ существующем церковном строе. Очевидно, и для этих людей несовершенства церковного управления далеко не безразличная вещь.
А для думскаго большинства, признающаго важное значение церковных установлений въ системе русской государственности въ силу векового тесного единения Церкви с государством, вопрос о преобразовании существующего церковного строя, соответственно назревшим потребностям времени, вырастаетъ в первостепенный вопрос не только церковного, но и государственного значения.
На очерченном выше общем фоне преобразовательных ожиданий резким пятном выступает почти полная неподвижность самого ведомства. Реформационныя начинания Святейшего Синода, поскольку они известны обществу, более, чем скромны. В деле преобразования высшаго органа управления духовное ведомство до сих пор не пошло далее попытки узаконить существующий незакономерный способ пополнения личного состава Синода одними епископами, не забыв, впрочем, увеличить им оклады содержания по должности.
В отношении же местнаго управления Святейший Синод ограничился составлением «Инструкции секретарям духовных консисторий», оставив самый строй этих обветшавших учреждений в полной неприкосновенности. На неоднократные же указания Государственной Думы о необходимости коренного преобразования духовных консисторий ведомство до последнего времени ссылалось на Поместный Собор Русской Церкви, который — и только он один, по мнению ведомства, — может авторитетно установить подлинные основы и истинный дух реформы церковного управления вообще и консисторского строя в частности.
На вопросы же, когда и как будет созван Поместный Собор, до последнего времени ведомство отвечало незнанием, так как это дело изволения «Помазанника Божия — Государя Императора». Но въ этомъ «незнании» и заключалась вся безнадежность ожиданий церковных реформ. Синод не знал, Обер-Прокурор тоже; но все остальные знали, что время и порядок созыва Собора зависели не столько от Императора, сколько от его «стряпчего по деламъ государственным» въ Святейшем Синоде. Дело, таким образом, не в незнании, а в нежелании сдвинуться с места.
Такова действительность. Её безотрадность не скрашивается и тем, что вопросом о преобразованиях занято, как иногда указывало духовное ведомство, Предсоборное Совещание, призванное к жизни бывшим Обер-Прокурором Святейшего Синода В. К. Саблером взамен Высочайше учрежденного в 1906 году «Предсоборнаго Присутствия для разработки подлежащих разсмотрению на Поместном церковном Соборе вопросов».
Таково авторское видение ситуации, поддержанное множеством верующих, в том числе, и священством.